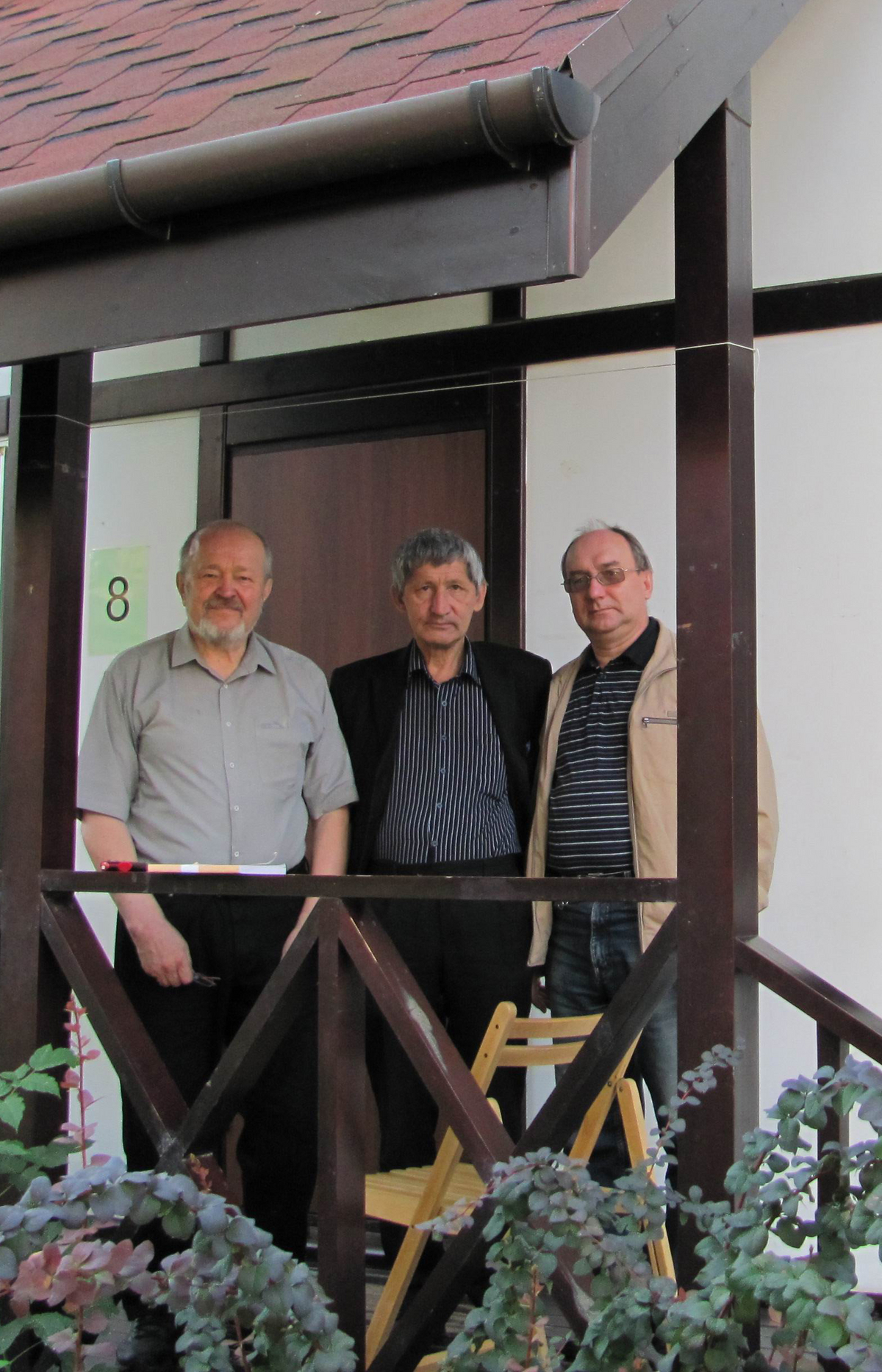14 августа свой 70-летний юбилей отмечает заведующий кафедрой геометрии, доктор физико-математических наук, почётный работник высшего образования Российской Федерации Владислав Брониславович Поплавский.
Его университетская жизнь связана с кафедрой геометрии, где он прошёл путь от аспиранта до заведующего. В разные годы работал ответственным секретарём приёмной комиссии университета, заместителем декана механико-математического факультета по научной работе.
Название кафедры геометрии, которая отмечает в этом году своё 90-летие, определяется задачей ясной и очень ёмкой — измерить Землю! Изначально во всём, чем занимались её сотрудники, закладывалось разнообразие научных направлений. Так что совсем не случайно исследования в области дифференциальной геометрии и топологии привели учёного-геометра в ещё одно — алгебраическое направление кафедры.
Во время нашей беседы Владислав Брониславович увлечённо и старательно исчертил несколько листов с намерением донести до меня азы геометрии. Увы, «геометрическое мышление» дано не всем… Так что оставим эти головоломки студентам мехмата и попросим нашего собеседника вывести геометрию из стен школьного класса и университетской аудитории «на вольный воздух, к непринуждённым геометрическим занятиям без учебника и таблиц».
— Чаще всего вектор нашего развития задают родители. Ваши родители были математиками?
— На собеседование в 13-ю физико-математическую школу меня отвела, буквально поймав во дворе, подруга моей матери, с которой они вместе учились в той же школе, тогда ещё женской.
Кстати, моё первое знакомство с кафедрой геометрии СГУ произошло тоже в школе: лекции нам в рамках Юношеской математической школы читали университетские преподаватели Лев Николаевич Либих и Вячеслав Николаевич Салий. Правда, я, учась в физическом классе, собирался стать физиком, как и моя мама, окончившая физфак СГУ в 1954 году. Тогда факультет выпустил рекордное число студентов — 600!
Но планы изменились после того, как товарищ по школе убедил меня, что надо поступать только на мехмат, так как математика «шире» физики, да и просто универсальна. Правда, сам он после окончания факультета стал кандидатом химических наук. А вот я остался верен математике, хотя выбор, можно сказать, сделали за меня. Я же в то время очень соответствовал поговорке: «Кто там ходит, как лунатик? Это точно математик!».
Я знаю более чем 120-летнюю историю своей семьи: чистых математиков в нашем роду не было, все мои предки были технарями-инженерами. Отец — специалист по металлу. Он типичный представитель рода Поплавских. В 1905 году мой прадед Адам Семёнович — мы пошли от Адама! — обеспечивал движение поездов по железной дороге, заводил дизель, работавший на сырой нефти, с помощью лошадей. Все его сыновья и дочь профессионально были связаны с железной дорогой.
— Что повлияло на ваш выбор специальности «Геометрия и топология»? Кто из учителей на мехмате помог определиться с этим направлением?
— На кафедру геометрии я был «приписан» на третьем курсе. Я уже тогда знал, что это лучшая кафедра благодаря авторитету её создателя — Виктора Владимировича Вагнера. Выпускник московского университета, он удостоился степени доктора физико-математических наук по результатам блестяще защищённой диссертации. Поразительно, как выходец из провинциального Балашова смог произвести такое впечатление на столичную профессуру. После защиты 27-летний профессор был приглашён в Саратовский университет для заведования кафедрой.
А геометрическую подгруппу (была и алгебраическая) я избрал для себя из-за Марка Вольфовича Лосика. Встреча с ним определила наше сотрудничество на долгие годы, он был руководителем курсовых работ и моей кандидатской диссертации.
До сих пор в памяти яркое событие: в 1976 году мы отмечаем на механико-математическом факультете СГУ 150-летие геометрии Николая Ивановича Лобачевского, одного из первооткрывателей неевклидовой геометрии. Первым был доклад Виктора Владимировича Вагнера, а второй мой. Можете представить моё состояние: я выступал после великого Вагнера — легендарнейшая личность! В знак уважения к учителю и основателю кафедры геометрии мы выпустили книгу «Школа профессора Вагнера» в год 100-летия СГУ, а сейчас подготовили к печати статью «Наследие Вагнера. К 90-летию кафедры геометрии Саратовского университета».
После пятого курса я был оставлен на кафедре геометрии в качестве аспиранта Вагнера. Так начался мой путь на кафедре, которую я никогда не покидал до сего дня.
Почти тридцать лет кафедру геометрии возглавлял профессор Виктор Владимирович Розен. Именно на это время приходится главный период моего научного становления и карьерного роста.
Защита моей кандидатской диссертации «Локальные изометрические вложения произведений римановых пространств в пространства постоянной кривизны» состоялась в Казанском университете в 1986 году.
— Владислав Брониславович, что увело вас от геометрии в область алгебры и логики? Насколько органичным для вас было движение в этом направлении? И, конечно же, любимый дилетантский вопрос: то, чем вы замаетесь теперь, хоть как-то применимо в нашей обыденной жизни?
— Да, действительно, по первой учёной степени кандидата я специалист по дифференциальной геометрии и топологии, по второй — доктор по алгебре, логике и теории чисел.
Многие из моих учителей за свою жизнь меняли несколько научных направлений. Вот, казалось бы, Вагнер — великий геометр, но занимался почему-то алгеброй. В начале 1950-х годов профессор разработал алгебраическую теорию обобщённых групп, и с этого времени на кафедре геометрии наряду с геометрическим возникает также алгебраическое направление. Научные интересы Вагнера отличались разносторонностью, разнообразием направлений в области геометрии, топологии, алгебры и логики. И он передал эту эстафету своим коллегам и ученикам, создавшим в будущем различные направления в дифференциальной геометрии, приложениях в механике, вариационном исчислении, общей и универсальной алгебре и логике.
Геометрия на всех языках звучит одинаково и имеет один и тот же смысл ещё со времён до древних греков. Она появилась раньше, чем математика. Первопроходцами были геометры, измеряющие землю. Весь мир Универсума, Вселенной, представляется в нашем понимании как единое целое. Измерить Землю означало измерить Вселенную. Именно такой смысл Вагнер и вкладывал в то, чем занимались на кафедре геометрии. Тем самым изначально закладывалось разнообразие научных направлений и методов исследований, это стало её традицией.
Существует множество видов геометрии: школьная синтетическая, евклидова, неевклидова, аналитическая, дифференциальная, алгебраическая, проективная, аффинная, начертательная, геометрия векторных полей и ещё десятки других, и каждая из них занимается частью Универсума.
Начиная с 2000 годов лично у меня как учёного идёт поиск новых направлений. И выбор состоялся в пользу бинарных отношений на конечных множествах. Это привело меня к изучению матриц с элементами из произвольных булевых алгебр. Бурное развитие математики в сторону теории матриц над решётками тесно связано с их приложениями в различных областях научного познания, будь то социология, экономика, медицина, генетика, кибернетика, история и даже политология.
В итоге в 2013 году в Ульяновском университете состоялась защита моей докторской диссертации «Определители булевых матриц и их приложения» по специальности математическая логика, алгебра и теория чисел.
Альберт Владимирович Гохман, более полувека проработавший на нашей кафедре, прочитав автореферат моей диссертации, сказал: «Как это по-вагнеровски!». И это было лучшей похвалой.
Сегодня это направление весьма востребовано и активно развивается под названиями «идемпотентная математика», «тропическая математика», «математика расписаний».
Мои последние научные работы привели меня к новому направлению, связанному с модным ныне направлением в математике — идемпотентной алгеброй и геометрией. Кажется, я опять сменил тему моих исследований? Однако это не совсем так.
— Считается, что геометрию в школе не любят. Всё, что удаётся вынести большинству из нас из школьного опыта общения с геометрией, — это поговорка про «Пифагоровы штаны». Подозреваю, что геометрическое мышление — это особая сущность и дана она не каждому. Можете назвать её основные признаки?
— В ту пору, когда я учился, геометрия была одним из главных предметов в школе, и её классно преподавали. Снижение качества геометрического образования началось не сегодня. Здесь сыграли свою роль непродуманные эксперименты с учебниками, которые взялись улучшать, отказ от традиционных методов изучения геометрии.
Многое было утеряно в связи с этой перестройкой. И, знаете, это испортило учителей: они стали бояться геометрии, иногда и элементарную задачу решить не могли. Геометрические задачи стали для наших школьников самыми неподъёмными на олимпиадах всех уровней.
Ради спортивного профессионального интереса я занимался геометрией с отстающими учениками-школьниками. Вывод: для нормального человека ничего проще геометрии нет. Другое дело, что геометрическое воспитание у них отсутствует.
— Со времён Евклида и Архимеда прошли тысячелетия. А кто был первым геометром, по вашему мнению?
— Это скорее всего даже не Евклид и не Архимед. Я думаю, это был неандерталец, нарисовавший на скалах какой-то план — а это уже карта, информация в виде рисунка, чертежа.
— Запомнилось выражение: «Математика ближе, чем вы думаете». Наверное, многие люди не подозревают, что и геометрия ближе, чем они думают? Где мы чаще всего сталкиваемся с ней в быту?
— Проще ответить, где мы с ней не сталкиваемся. Да вот, пожалуйста, смартфон у вас в руках. Поистине всё гениальное просто. В этом гаджете —слово-то какое… — собран весь Универсум! В этот агрегат поместился путь тысячелетних исследований тысяч геометров, математиков, физиков. Теперь это называют софт — программное обеспечение. Или возьмём автомобиль: ни одной шестерёнки вы не создадите без дифференциальной геометрии, без геометрии векторных и скалярных полей.
Так что лучше спросите, где мы не пользуемся геометрией в обычной жизни.
— Насколько будет уместным словосочетание «геометрия Саратова», она есть в нашем городе и как её увидеть человеку без специальной подготовки? Ваше любимое место в городе с этой точки зрения?
— Для меня Саратов прежде всего удивительное место с точки зрения рождения здесь гениальных геометров. Тот же Виктор Владимирович Вагнер или Александр Петрович Норден. Я слушал его лекции в Казанском университете. Очень жалею, что не записал рассказ об известных и ему лично знакомых немецких математиках первой половины двадцатого века, состоявшийся, когда он любезно пригласил меня к себе домой. Хорошо помню обстановку его квартиры, в которой вроде бы в своё время проживал сам Лобачевский.
В Саратове родились и Марк Вольфович Лосик, Александр Евгеньевич Либер.
А любимое место — Городской парк имени Горького. Есть такая легенда, что дубы, которые сейчас убирают, были посажены ещё пленными французами после войны с Наполеоном, хотя некоторые историки её опровергают.
— Если продолжить тему пленных французов, то не только историки и краеведы, но и ваши коллеги, в том числе зарубежные, признают, что проективная геометрия родилась в Саратове. Труды лейтенанта наполеоновской армии Жана-Виктора Понселе, который почти полтора года провёл в плену в нашем городе, стали фундаментальной основой современной проективной геометрии. Кто для вас Понселе и как часто вы рассказываете о нём студентам?
— Про Понселе я узнал, будучи уже доцентом. Удивительно, что у нас в Саратове нет памятных знаков, которыми можно было бы обозначить присутствие в городе таких великих людей. Можно было и улицу назвать его именем, и бюст установить.
Поражает, что недавний студент, двадцатичетырёхлетний лейтенант инженерных войск, выпускник Парижской политехнической школы попал на войну и без учебников, без новых публикаций, находясь вне активной научной жизни, в своём труде изложил все существенные понятия проективной геометрии.
Я признаю за ним осмысление недостающего звена, дополняющего геометрии Евклида и Лобачевского геометрией без параллельности.
Как только начинаю студентам рассказывать про евклидову плоскость или пространство, первый вопрос: а вы знаете, что это такое? И здесь мы вспоминаем про Лобачевского, Понселе и Римана.
— Студенты пишут о вас в сетях: классный, прекрасный, чёткий, замечательный, любимый преподаватель. Как вам удалось добиться такого признания? Вы сами признаёте за собой эти качества?
— Когда был молодой и читал лекции, то мне студенты писали трогательные открытки с благодарностями. С появлением интернета эти открытки пропали. Я слышал про себя только одно определение: прикольный. Вот только не знаю — хорошо это или плохо?
— Ещё ваши подопечные восхищаются тем, что вы на пальцах можете вывернуть однополостный гиперболоид. Что это за удивительные изогнутые геометрические конструкции, которые на самом деле прямые?
— Это линейчатые поверхности, им посвящено много книг из раздела аналитической геометрии. Это всё элементарно, для первокурсников, когда мы проходим с ними поверхность второго порядка.
Студенты всегда восприимчивы к таким вещам. Иногда я даже больше замечаю интерес в глазах у химиков, биологов, физиков, чем у самих мехматовцев. Они готовы вырваться из привычных рамок бытия в мир «многообразий и римановых пространств».
— Чаще всего люди устают от своей работы и стараются сбежать от неё на день-два. Что лично вам помогает перемещаться из «римановых пространств» в жизнь обычного человека? Или это происходит само собой, без дополнительных усилий? Чем любите заниматься в свободное время?
— Я легко переключаюсь — на дачу, на автомобиль, на аквариумных рыбок, на музыку, на художественную литературу. Научную литературу по своей специальности читаю запоем. Правда, по своей теме мало что нахожу. Чувствую, что не туда пошёл, мало кто занимается теорией бинарных отношений. Даже искусственный интеллект не помогает.
Как-то на физфаке у меня была лекция, и ребята в лаборатории удивлялись: что ни спроси, ИИ такие вещи выдаёт! Ну, я и спросил про ту часть науки, которой занимаюсь сам. Увы, ИИ выдал мои же работы, только написанные задом наперёд, и всю терминологию поменял местами. Чем тяжелее проблема, тем меньше ей занимаются. Видимо, ИИ не хватает данных на эту тему. Хотя, на мой взгляд, интеллект, если это интеллект, предполагает предвидение чего-то, возможного развития событий и последствий предпринимаемых действий.
— Кто-то из математиков заметил, что со временем от занимательных задач, которые человек решает в детстве, мало что остаётся. А что остаётся? Или рождается? Что мотивирует вас продолжать заниматься этой наукой?
— Замечательный фильм «Земля Санникова» — удивительная история жизни первооткрывателей — заканчивается такими же удивительными словами: «Эх, человек, человек! Чего тебе дома не сидится? Зачем по земле идёшь, человек? Зачем вся жизнь твоя в дороге?».
Наверное, затем, чтобы жить. И постигать Универсум.
Беседовала Тамара Корнева, фото Виктории Викторовой и из личного архива героя