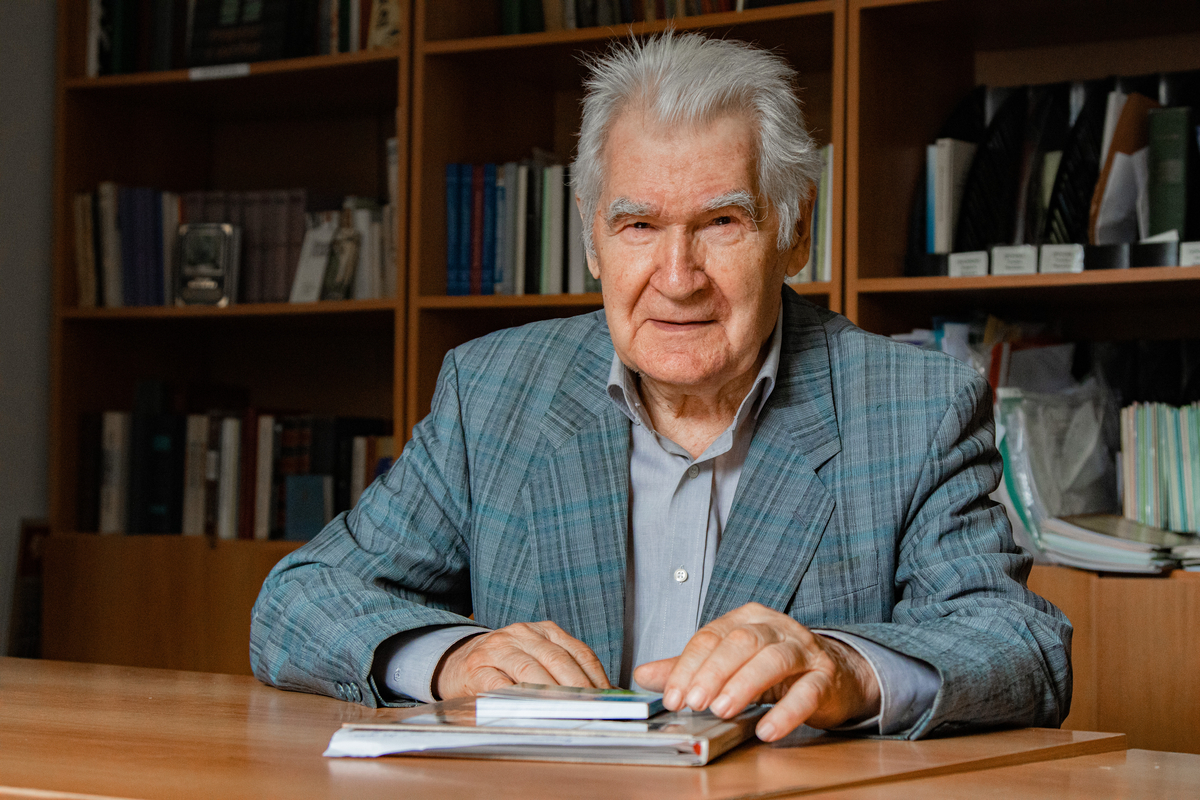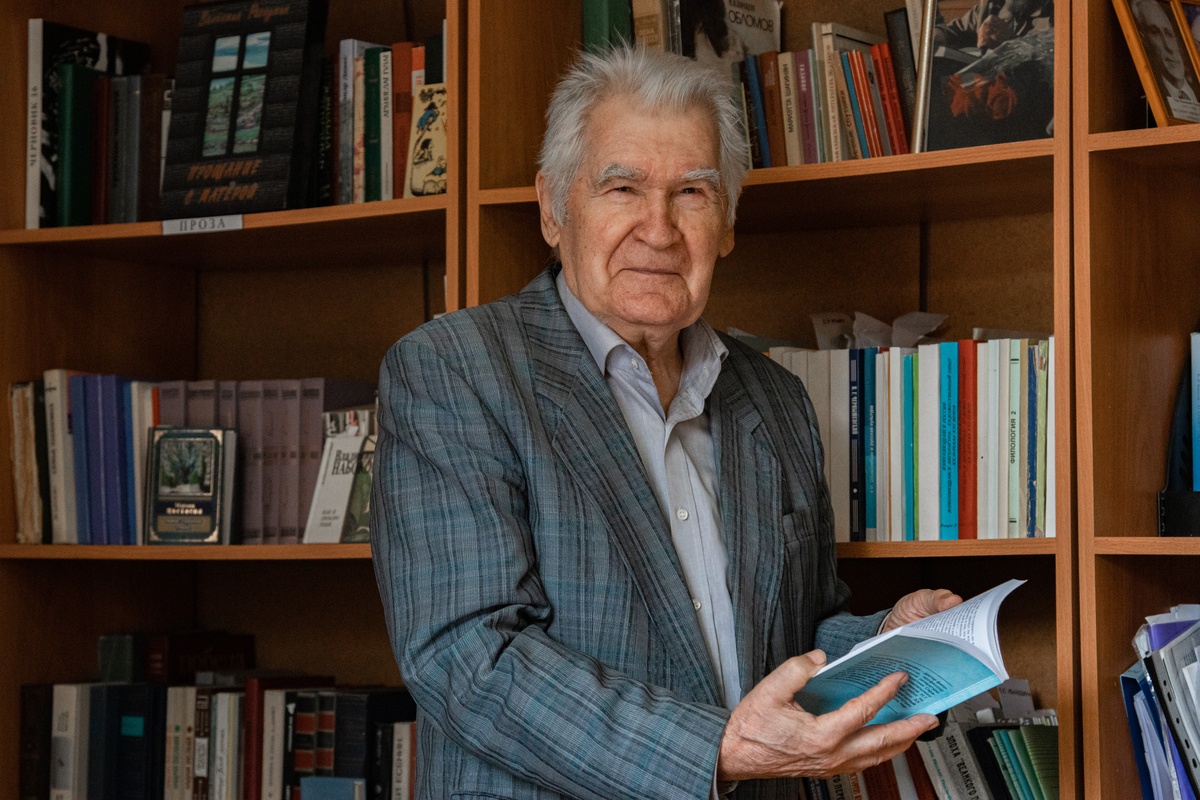14 сентября свой 85-летний юбилей отмечает доктор филологических наук, профессор, почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации Александр Иванович Ванюков.
В стенах филологического факультета, а затем Института филологии и журналистики, он работает уже седьмое десятилетие, пройдя все ступени научно-педагогического труда – от ассистента до профессора, заведующего кафедрой русской литературы ХХ века в перестроечные девяностые.
Спектр его научных интересов необычайно широк: от русского символизма и культуры, журналистики Серебряного века, истории русского романа ХХ века до литературы русского зарубежья и новейшей русской литературы ХХ–XXI веков. Александр Иванович – авторитетный исследователь. В его архиве есть благодарственное письмо от самого Александра Исаевича Солженицына.
Его библиография насчитывает 240 печатных изданий, только за последние пять лет вышло 26! Каждый этап исследовательской деятельности обязательно заканчивается книгой. Как шутит сам автор: «Такая привычка, чтобы было что почитать».
Он сохранил уникальное качество для человека почтенного возраста и нелёгкой судьбы – искреннюю увлечённость словом, сюжетом, автором, событием, временем.
Отвечая на вопрос, как будет развиваться филология в XXI веке, считает: «Если будут увлечённые люди, то всё будет нормально. А они будут!» Что придаёт уверенности филологу по призванию и какой путь прошёл сам мастер, читайте в интервью, взятом накануне юбилея.
– Александр Иванович, стать физиком или лириком – в наших силах? Это самостоятельный выбор человека или всё же судьба и нам её кто-то диктует свыше? Как было в вашем случае? Как проходило ваше детство в селе Дьяковка, что дала вам сельская школа в Краснокутском районе?
– Я родился в 1940 году, тогда ещё в Автономной Республике Немцев Поволжья – в Экгеймском кантоне. Тем не менее это было старинное русское село Дьяковка. Моя мама тоже родилась здесь, но тогда это ещё был Новоузенский уезд Самарской губернии. Вся наша родословная из этого села ведётся. Моя прабабушка родилась в 1862 году, после отмены крепостного права. У Максима Горького так начинается роман «Дело Артамоновых»: «Года через два после воли».
Дьяковка в основном ассоциируется с переселенцами-малороссами, с соляным шляхом, с рекой Еруслан. А ещё – с красивым местом, получившим название Красный Кут. Это был заповедный край – леса, бахчи, сады. Мои предки Филатовы и Колесниковы так или иначе были связаны с лесом. Так что родился я в первозданной природе и в намоленном месте – церковь в селе была построена ещё в 1824 году. Правда, у меня она в детстве в основном ассоциировалась с кино – в храме был сельский клуб. Деревня стала темой многих моих стихов.
Как-то мы с сыном в конце 1960-х были в Москве и зашли в Исторический музей на Красной площади. Помню, меня тогда поразила экспозиция, где на карте Российской империи XVIII века огоньками обозначались места различных поселений. Там уже была Дьяковка!
Семейное легендарное начало положил мой дед, отец матери, Иосиф Дмитриевич Колесников, который принимал участие в Первой мировой войне. Он окончил школу прапорщиков, принял революцию и активно сражался в боях на степном заволжском фронте. Затем остался в армии и сделал блестящую карьеру, дослужившись до генерала. С 1930-х годов служил в Москве, окончил военную академию имени М.В. Фрунзе. А уже в 1940-е преподавал там, был начальником курса. В 1942-м дед погиб под Москвой, уже на полях Великой Отечественной.
С детства помню – бабушка как святыню хранила написанную им книгу «Отделение в бою». А ещё у нас дома было издание «Тихого Дона» Михаила Шолохова 1940-го года. Вот на таком замесе я и формировался – дед для меня был авторитетом, выражением целой эпохи от Первой мировой войны. К тому же писатель, как и Шолохов.
Когда мы перебрались в Красный Кут, в школе у нас был замечательный словесник. Я стал самым активным читателем местной библиотеки. Окончил школу с серебряной медалью и мог сдавать при поступлении в вуз только один предмет. Выбор пал на филологический факультет СГУ.
– Вы помните свой первый учебный день в университете? Чья была лекция, о чём? Кто и чем из учителей в набольшей степени повлиял на вас?
– Больше запомнил, как писал сочинение при поступлении. Выбрал тему «Новые люди в романах Чернышевского и Тургенева». Когда пришёл на устный экзамен, ко мне обратилась сама Алла Александровна Жук, мол, я читала ваше сочинение, пойдёмте, будете мне отвечать. Можно сказать, она всё и определила.
На первом курсе я уже выступал на студенческой научной конференции, меня курировали Евграф Иванович Покусаев и Алла Александровна Жук. Они мне доверили тему «Поэзия в журнале “Новый мир” 1957 года».
Можно было пойти в семинар по классической литературе, но я на третьем курсе выбрал семинар Ксении Ефимовны Павловской на только что открытой кафедре советской литературы. Взял тему, связанную с драматургией Максима Горького и Леонида Андреева.
Учёба в университете была для меня настоящим открытием и невероятным событием! Все самые знаковые для нашего филфака имена – настоящая университетская элита – тогда были на пике своих творческих возможностей. Для меня стали потрясением лекции Раисы Азарьевны Резник по гомеровскому эпосу, Павла Андреевича Бугаенко по литературной критике, Веры Константиновны Архангельской по древнерусской литературе, Татьяны Михайловны Акимовой по фольклору. Мне так и запомнился её образ: она входит в аудиторию вместе с песней и начинает своё сказание. А как Светлана Александровна Бах читала историю русского языка, открывала нам красоту старославянского языка! На третьем курсе классическую литературу 19 века читала Евгения Павловна Никитина. Это оставило очень яркие воспоминания – она дала мне возможность проявить себя, мои первые исследования были посвящены балладам Жуковского и Пушкина.
Я учился вместе с такими именитыми ныне людьми, как Валерий Владимирович Прозоров, на два курса раньше нас учились Людмила Ефимовна Герасимова и Юрий Юрьевич Аркадакский. Получается, что в то время формировался костяк будущего университетского филфака.
Кстати, тогда же я познакомился с одной своей однокурсницей. Сначала, как водится, студенческая дружба, потом любовь, потом семья. Светлана Борисовна Дурнова долгие годы занималась журналистикой. Её отец – знаменитый поэт 1940–50-х годов Борис Фёдорович Дурнов-Озёрный. Она много сделала, чтобы восстановить имя отца и память о нём. Вот какие удивительные бывают в жизни совпадения: ещё будучи школьником, на одном из мероприятий в Краснокутской библиотеке я декламировал стихи Бориса Фёдоровича об открытии Волго-Донского канала!
Дипломную работу в университете я написал аж на сто страниц. Это была некая заявка на то, что я овладел какой-то методикой.
– Вы учились на нашем филфаке в самый разгар «оттепели». Как это отразилось на атмосфере университетской, студенческой жизни, на вас лично? Что тогда обсуждали, о чём спорили будущие литературоведы? Какие тренды задавали преподаватели?
– Запомнилась вольная, свободная атмосфера тех лет. Евгения Павловна Никитина вела литературный кружок выразительного чтения, мы ставили спектакль по «Василию Тёркину» Твардовского. Сколько воодушевления и творческого энтузиазма! В 1960-е годы мы с женой в одном из концертных залов Москвы слушали представителей молодой поэзии «новой волны», это было очень яркое событие! Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина – эти поэты выступали тогда и на переполненных стадионах. К нам в Саратов приезжал Булат Окуджава. Поэтические вечера пользовались большой популярностью, я сам на таком турнире читал цикл стихов о Марине Цветаевой, даже получил премию и занял какое-то место.
Но несмотря на активную публичную и журналистскую деятельность (начинал печататься в газете «Заря молодёжи»), я все же выбрал путь науки.
Ксения Ефимовна Павловская в семинаре давала мне возможность говорить и писать обо всём, что мне казалось интересным. Была также потрясающая музейная практика, я ездил в музей Московского художественного театра. Именно тогда понял, что диссертацию невозможно написать без привлечения нового материала, мне очень понравилась работа с текстами. А темой моих исследований стала драматургия Максима Горького и Леонида Андреева, представителей Серебряного века русской литературы. Это было определённой проверкой и подготовкой к тому, чтобы заниматься на высоком профессиональном уровне классической литературой – нужно было нарабатывать опыт.
По окончании университета меня оставили на факультете. Три года работал методистом на вечернем и заочном отделении, при этом числился старшим лаборантом на кафедре русской литературы. Заведующий кафедрой Евграф Иванович Покусаев вёл методологический семинар, который стал для меня великолепной школой – она воспитывала чувство ответственности перед наукой.
Считаю, мне повезло, что для серьёзного исследования мне выдали тему о творчестве Александра Сергеевича Неверова, автора повести «Ташкент – город хлебный». В 1967 году по этой повести был поставлен художественный фильм (режиссёр Шухрат Аббасов). Сценарий для него написали Андрей Кончаловский и Андрей Тарковский. Я ездил в Москву, познакомился с семьёй писателя, всё досконально изучил об этом человеке. Два года писал о нём книгу, которая вышла в 1971 году. Кандидатская диссертация о творчестве А.С. Неверова получилась очень содержательная и объёмная.
С 1966 года я – ассистент кафедры советской литературы. Новая кафедра была боевая, амбициозная, все рвались в бой, осваивали открывавшиеся архивы, просторы современной литературы. Так вышло, что я первым из молодых защитил докторскую диссертацию – выбрал для себя интересную тему, связанную с жанром повести. Тут, кстати, мне очень помогли классики литературной критики, потому что ещё в школе, а потом в вузе все читали статью Белинского «О русской повести и повестях г. Гоголя», которая посвящена, в частности, анализу повестей «Арабески» и «Миргород».
Я с удовольствием открыл и начал разрабатывать для себя эту линию. Меня очень заинтриговала тема истории и поэтики русской повести на примере произведений всех ведущих русских советских писателей, начиная с Александра Фадеева. Этой темой заинтересовались многие литературоведы – моими рецензентами и оппонентами стали их лучшие представители – Галина Андреевна Белая (Институт мировой литературы) и Виктория Владимировна Бузник (Пушкинский дом).
– После защиты вашей докторской диссертации ведущий научный сотрудник Института русской литературы АН СССР Виктория Владимировна Бузник назвала эту работу «первым систематическим и целостным исследованием такой важной и острой проблемы, как поэтика жанра русской советской повести 1920-х годов». Что именно было в ней особенного?
– Некоторых учёных-филологов смущала сама тема поэтики как совокупности художественных принципов, характерных для произведений этого периода. Но представленное целостное исследование и масштабы освоенного материала подтверждали «ценность оригинального научного труда и добротность анализа». Докторскую надо было защищать в Совете МГУ, но целый год пришлось ждать защиты, так как на очереди было много соискателей из стран народной демократии. Так и вышло, что монография вышла в 1987 году, а защита состоялась в 1989-м.
В этом же году вышла книга «Жанр творческой индивидуальности» – пособие к спецкурсу. В продолжение темы я выбрал повести пяти авторов (от А. Толстого до А. Платонова), которые проанализировал с точки зрения поэтики заглавий, формы повествования, сюжета, характеров героев.
– В конце 1970-х вам довелось поработать в ГДР, в Виттенбергском университете имени Мартина Лютера в Галле. Какие впечатления остались от этого опыта?
– Ещё в годы учёбы у меня была переписка с немецкой студенткой из Тюрингии, всегда мечтал побывать там. И вот в 1978 году меня направили в Германию, в Виттенбергский университет, где в основном работали преподаватели, окончившие столичные вузы в Ленинграде и Москве –носители русского языка. В первый год в методических целях я подготовил книгу практических занятий по советской литературе. Поехал в Москву с отчётом, представил её, чем очень удивил работодателей. На следующий год подготовил книгу по современной русской литературе 1970-х годов. Уезжая, оставил её и забыл о её существовании. А через два года немцы её издали, сами написали предисловие на русском языке. У меня там даже дипломник был, написал работу по роману Константина Федина «Города и годы», успешно защитился. Но надо было возвращаться домой, в Саратов, – к тому времени у нас уже росли двое детей.
– В поле вашего зрения в разное время оказывались: Иван Бунин, Борис Пастернак, Михаил Шолохов, Александр Солженицын. Под вашей редакцией и с вашими комментариями вышли два сборника повестей русских советских авторов с трудной издательской, критической, читательской судьбой: Юрия Тынянова, Андрея Платонова, Михаила Булгакова, Лидии Чуковской. Они так и называются «Трудные повести». А сборник своих статей вы назвали «Литературный XX век: перевалы, перекрёстки, перепутья». Вы по-прежнему остаётесь верны однажды избранной теме?
– Пытаюсь и очень рад выходу новой книги в 2025 году! Издание «Литературный XX век-2: Журналы, книги, жанры» является органичным продолжением предыдущего сборника 2017 года. В своих исследованиях я стремлюсь создать целостный образ литературного процесса в XX веке. Концепция издания складывалась в процессе педагогической и научной работы последних десятилетий.
Кстати, на многие труды меня вдохновляли аспиранты. Мы вместе увлекались выбранной темой, я ездил с ними на конференции, а заканчивалось всё обязательно очередной статьёй. Моим первым аспирантом был теперь уже сам профессор Алексей Алексеевич Гапоненков. Это он увлёк меня Михаилом Булгаковым.
– Поэзия – тема для вас особая. Не только как для литературоведа, но и как для человека, который сам пишет стихи. Запомнилась ваша стихотворная фраза: «В душе моей светит долина». Мне кажется, это про вас. А каких поэтов вы любите перечитывать, кто из них в ранний творческий период был для вас примером для подражания?
– Сейчас я работаю уже над двенадцатым сборником стихов. Вам дарю десятый – лирическую трилогию «Круги земные и небесные». Хотел подарить одиннадцатый, но не нашёл – настолько он оказался популярным!..
А если серьёзно, то поэт во мне проснулся после тяжёлых жизненных испытаний в середине 1990-х. Пока был заведующим кафедрой, писал десять лет в стол, никому не показывал написанное и не печатал. Первый сборник назывался «Високос», потому что родился я в високосный год.
Любимых поэтов не перечесть – Блок, Есенин, Бальмонт... Но, когда читаю лекции по Серебряному веку, всегда приношу в аудиторию издание 1950-х годов Валерия Брюсова, этот двухтомник я купил в 8 классе. Вот он для меня знаковый во всех смыслах. Стараюсь передать его заветы будущим поэтам, чтобы их услышал каждый «юноша бледный со взором горящим».
– Александр Иванович, вопрос провокационный – за современной литературой следите? Кто-то из молодых литераторов стал для вас сюрпризом-открытием?
– Помимо научных, я читаю все литературные журналы, их, правда, осталось всего пять. Ежегодно составляю библиографию по всем из них. Кто стал открытием?
В этом году Алексей Алексеевич Гапоненков передал мне руководство дипломной работой одной из студенток. Благодаря этому я познакомился с автобиографической повестью российского писателя, кинорежиссёра и сценариста Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом», опубликованной ещё в 1996 году в журнале «Октябрь». Меня это произведение потрясло с точки зрения владения формой. Недавно в журнале «Нева» прочитал фантастическую повесть Сергея Шумского «Территория Р – 7». Это антиутопия, столь модная в наше время, очень удачная.
Удивила меня и поэтесса Елизавета Мартынова, опубликовавшая в журнале «Современник» свою первую повесть «До самого позднего света» о поиске смысла жизни художником Алексеем Лучининым. Это настоящая повесть.
– Ну, и традиционный вопрос – о студентах! Поделитесь личными сравнительными наблюдениями: как они меняются, в какую сторону?
– Время изменилось, а с ним, естественно, и студенты. У нас ЕГЭ не было. У нас была мощная гуманитарная составляющая в школьной программе, и я писал сочинения в школе и на вступительных экзаменах с удовольствием. Причём на многих страницах, и это было совсем не то, что сегодня доводится читать в приёмной комиссии. Но я не перестаю удивляться, как после таких изложений через четыре года они пишут настоящие работы – всё-таки университет делает своё дело!
Беседовала Тамара Корнева, фото Дмитрия Ковшова
Сентябрь, 2025